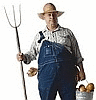Login
Кого выберет Германия?
7493 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort Musiker53 02.01.09 11:39, Zuletzt geändert 02.01.09 12:04 (Frankenburg)
В ответ на:
Sie unterscheiden sich vom Mehrheitsvolk durch eigene Sprache, Kultur und Geschichte, also durch eine eigene Identität;
Sie unterscheiden sich vom Mehrheitsvolk durch eigene Sprache, Kultur und Geschichte, also durch eine eigene Identität;
Verschiedene Gruppen von Russlanddeutschen haben verschiedene Identitäten.
Nach Dr. Krieger kann man das Niveau der Assimilierung der RD unterteilen, wobei
Jedes Niveau einer anderen Identifikation entspricht.
Dr. Krieger:
по степени ассимилированости в русско-советское общество
Оппозиционеров отличала этническая однородность, хорошее знание родного языка, земляческая солидарность, приверженность национальным обычаям, повышенная религиозность, неприятие советских реалий и коммунистической идеологии. Почти все они могли привести длинный список близких и дальних родственников, умерших от голода, расстрелянных или сгинувших в ГУЛАГе уже в 1920-е - 30-е годы, не говоря уже о репрессиях более поздних времен. К перспективе восстановления или создания немецкой территориальной автономии относились в своей массе сугубо отрицательно, т.к. полагали, что от этого суть тоталитарного режима для них нисколько бы не изменилась. В послесталинскую эпоху эти люди подвергалась пропагандистским атакам средств массовой информации и изощренным преследованиям со стороны КГБ. Отличаясь слабым политическим конформизмом, эти критически настроенные немцы имели, естественно, весьма малые шансы для получения высшего образования и профессионального роста. В 1960-е - 80-е годы именно "оппозиционеры" составляли подавляющее большинство переселенцев в ФРГ.
Вторую группу, составлявшую примерно от половины до двух третей общей численности немецкого населения Казахстана, можно назвать традиционалистами. Таковой являлась национально ориентированная часть этноса, примирившаяся с создавшимся положением и прилагавшая основные усилия на создание "нормальной" жизни и достижения экономического благополучия. Их отличительной чертой можно назвать умеренный политический конформизм, т.к. к партийной или административной карьере они активно не стремились, но становились членами партии ради должностей, если таковые по их квалификационным или профессиональным качествам им предлагались. В семейном кругу традиционалисты старались использовать немецкий язык и поддерживать национальный колорит. Люди пожилого возраста нередко становились прихожанами католических, лютеранских и протестанских общин. К межнациональным бракам они относились скептически, но не препятствовали, если молодые в этом упорствовали. Гордились т.н. "немецкими" достоинствами: стремлением к порядку и чистоте, пунктуальностью, ответственностью за порученное дело, организованностью, мастеровитостью, умением обходиться с техникой.
К числу традиционалистов можно отнести в первую очередь жителей старожильческих немецких сел Северного Казахстана и большинство выходцев из Поволжья и других регионов европейской части Российской Федерации. В Казахстане они проживали как в сельской местности, так и в городских поселениях, особенно там, где имелась достаточная концентрация соплеменников для хотя бы минимального национального общения. В профессиональном аспекте заметную часть составляли лица c квалифицированными рабочими и инженерно-техническими специальностями. Они, как правило, высоко ценились коллегами по работе и особенно непосредственным начальством. Из их среды рекрутировались производственно-технические кадры и немногочисленные функционеры нижнего, реже среднего звена управления: бригадиры, мастера, председатели колхозов и директора совхозов, начальники цехов и ремонтных мастерских, ведущие специалисты небольших и средних предприятий, заведующие в школах, парторги первичных организаций, руководители районных организаций и т.д., а также депутаты Советов различных уровней вплоть до областного. В своем большинстве традиционалисты не добивались от властей восстановления национальной республики, да и к самой идее относилась неоднозначно: одни опасались "добровольно-принудительного" переселения в автономию, потери с таким трудом налаженного быта, своими руками построенного дома, хорошо оплачиваемого рабочего места и т.д. Другие, ввиду обостряющейся межэтнической конкуренции и предчувствуя грядущие межнациональные конфликты, а также под влиянием ностальгических воспоминаний о жизни в бывшей поволжской республике, склонялись к осторожной поддержке требований о национальной территории. К ним примыкали оставшиеся в живых бывшие функционеры из АССР НП или лица, получившие там образование, и мечтавшие о восстановлении "ленинских" норм и принципов национальной политики. Традиционалисты составляли основную массу национального движения "Возрождение" и выезд в Германию для большинства из них в период существования Советского Союза был неактуален. К тому же до 1990 года вызов на постоянное место жительства в ФРГ могли сделать только родственники первой ступени (родители, братья или сестры, дети). Но у подавляющего большинства поволжских немцев, как и у жителей старожильческих сел, таких родственников влоть до начала перестройки не имелось. После провала попыток восстановления республики на Волге и начавшегося экономического и социально-политического хаоса эта часть "советских" немцев вплоть до середины 90-х годов составляла подавляющее большинство в эмиграционном потоке.
В количественном отношении наиболее малочисленную группу - по нашим оценкам от 5 до 10% - составляли т.н. интегрированные немцы (интегратисты). В ментальном, культурном, языковом, профессиональном отношении и родственными узами они были прочно инкорпорированы в советское общество и русскую культуру. Несмотря на фактически полный отрыв от национального языка и народной культуры, они осознавали себя немцами. Большинство из них дисперсно проживало в городах, реже в сельской местности и занималось преимущественно квалифицированным умственным трудом: учителя, библиотекари, врачи, инженеры, научные работники, преподаватели вузов, лица твоческих профессий и т.д. Политический конформизм зачастую уживался у них с интересом к прошлому и настоящему своего народа, с внутренним протестом против неравноправного политического и культурно-языкового положения немцев в СССР и, в частности, в Казахстане. Многим из них неоднократно указывалось на пределы их профессионального, служебного и административного роста, виной чему был "пятый пункт". Особое место занимала немногочисленная национальная интеллигенция: писатели, журналисты немецких газет, артисты Немецкого театра, преподаватели и учителя немецкого языка как родного. С каждым годом число владеющих родным языком непрерывно уменьшалась и в воссоздании автономного образования эта категория лиц интеллектуального труда видела единственный шанс остановить этот процесс, повысить функциональность и престижность немецкого языка, тем самым обеспечив свое профессиональное будущее. Это же относилось к немногочисленной гуманитарной интеллигенции - историкам и этнографам, социологам и германистам, а так же к доцентам и профессорам различных специальностей - которым национальный Университет и академический "Институт истории и культуры советских немцев" представлялись многообещающей альтернативой их фактическому прозябанию на периферии казахстанского образования или науки.
Интегратисты активно выступали за предоставление немцам административной территории в рамках Союза ССР, чтобы таким образом повысить политический статус этноса и стать "титульным" народом. При этом они бы получили возможность на равных конкурировать с остальными коренными советскими народами в образовательной и кадровой политике, в деле лоббирования "советско"немецких интересов в Центре через государственные институты. Они составляли, как правило, руководящий состав и актив национальных организаций и центров, возникших в конце восьмидесятых годов. Показателен здесь состав первой учередительной конференции "Всесоюзного общества советских немцев "Возрождение", состоявшейся в марте 1989 года: из 135 участников 53 являлись членами КПСС. Еще более разительным было социальное положение собравшихся: подавляющее большинство - 84 человека - составляли служащие, из них 12 (!) с научными степенями. Эти советские интеллигенты оценивали достаточно реалистично свою конкуррентноспособность и языковую компетентность на рынке труда ФРГ, поэтому призывы к восстановлению АССР НП нашли среди них наибольший отклик. Нередко многонациональный состав семьи, как собственной, так и детей/внуков дополнительно приводил к тому, что по крайней мере до распада СССР в 1991 году предпочтение отдавалось переселению в воссозданную Немецкую Автономную Республику в пределах России, а не туманным перспективам вживания в германское общество, которое в культурном отношении было им во многом чуждое.
Наконец, группа ассимилировавшихся немцев представляла собой полную противоположность оппозиционерам. Стремясь избежать для себя и своих детей последствий "каиновой" печати как лиц немецкой национальности, а также морально-психологического прессинга, эти люди осознанно дистанцировались от своих соплеменников. Во время выдачи удостоверений личности после снятия с учета в 1955 г. часть из них под тем или иным предлогом принимала, зачастую за взятки, чужое имя или заносили в паспорт иную национальность. Другие ориентировались на межнациональные браки, воспитывали детей в лоне русского языка и советской культуры, записывали их под фамилией и национальностью инноэтничного брачного партнера. Своей национальности или происхождением родителей, бабушек и дедушек они стыдились и это тщательно скрывали. С немецкими родственниками старались поддерживать минимальные контакты. К середине 1980-х годов в Казахстане не менее пятой части этноса можно было, пожалуй, отнести к "немцам" только по фамилии или паспорту; численность же представителей других национальностей с немецкими корнями не поддается количественной оценке. Ассимилянты отличались повышенным политическим конформизмом, активно стремились стать членами КПСС, ориентировались на заключение межнациональных браков и практически ничем не выделялись из среднестатистических русских/советских людей. Честолюбивым лицам из их среды "Система", как правило, не мешала в деле получения образования и продвижения по служебной лестнице. Примером может служить карьера профессионального чекиста, генерала Владимира Крючкова, председателя КГБ СССР в 1988-91 гг., у которого бабушка была поволжской немкой (сей генеалогический факт до момента распада СССР генерал, естественно, не афишировал). Немало видных советских ученых, музыкантов и других представителей творческой интеллигенции имели немецких предков, о которых они сами или их биографы, как правило, замалчивали или же пытались прикрыть ссылками на мифические скандинавские или прибалтийские корни. В основном из среды ассимилянтов первого поколения с еще "германскими" фамилиями осознанно выбирались т.н. образцовые немцы, которые становились членами ЦК Компартии Казахстана, депутатами Верховных Советов республики и СССР, Героями социалистического труда, назначались на немногочисленные для немцев выделенные престижные посты и должности. На их примере разоблачались "идеологические диверсии" Запада о якобы неравноправном положении немецкого национального меньшинства в Советском Союзе.
В радикально изменившихся общественно-политических условиях, возникших вследствии дискредитации коммунистических и социалистических идей, ликвидации СССР и образования новых суверенных государств, у этой группы наблюдается т.н. "этнический реннесанс". Немало бывших ассимилянтов проявляют повышенный интерес к генеалогическим изысканиям, восстанавливают контакты с прежде нежелательными родственниками, стремятся юридически оформить свое новое этническое самосознание. С середины 1990-х годов эта категория "немцев" начинает составлять заметную часть переселенцев на историческую родину.