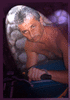Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы
Жадных людей надо топориком по темечку.
__________________________________________
Быть Русским, значит быть Великим.
Вы явно не русский а выдающий себя за такового - просто провокатор.
-Но, в любом случае, - гениальность Дост-ого как великого писателя, непревзойдённого знатока человеческой души, несоизмеримо выше и -выходит за рамки всех его религиозных и политических воззрений
-Нет, всё наооброт. На первом месте его религиозные и политические возрения.
"...будучи великим художником, он был им все-таки «лишь попутно», ибо он прежде всего – пророк, угадавший исторические судьбы человечества… Роман Достоевского, как особое качество, как определенный способ художественной организации человеческого сознания, и был для писателя формой его страстной проповеди мессианского назначения России».( Герман Хессе)
-А вот меня книга захватила, и даже что-то и приснилось невнятное такое
Последняя ваша фраза побудила написать Вам. В надежде, что
Вы со временем откроете сами своего Дост-го без помощи церковников, всяких гессе и проч "критиков". Творч. наследие писателя как художника не определяется его "человеческими" пороками и вредными наклоностями .
Разве имеет значениe, какими людьми были Гомер или Шекспир? Мы вообще можем ничего не знать о характере автора.
Но к сожалению, в основном ( в России) людей больше занимают "извращения" и пристрастия Д, а также идеологическая проблематика.. Преходящая острота этой "проблематики" заслоняет более глубинные моменты его творчества настолько, что часто вообще забывают, что Д-ий прежде всего художник (правда,особого типа) , а не философ или публицист.
Что же касается его религиозн. воззрений, то христология Д. изучена недостаточно, многие проблемы, связанные с " сияющей личностью
Христа", остаются дискуссионными, и на каждое "про" у Д. всегда находится своё "контра", котор не редко звучит много убедительнее..
Другие страны, включая славян , гораздо менее склонны к преклонению перед Д.-проповедником христ-ва.
Напр., Анжей Вайда категорически дистанцировался от Достоевского-идеолога: “Я ненавижу его за национализм, за его ничем не оправданную убежденность в том, что Россия должна сказать миру какое-то “новое Слово”, что русский Бог должен воцариться во всем мире, что православие имеет какие-то большие права, чем другие религии. ..." Но это не мешало ему восхищаться Д-им-художником.
Известно, что японцы просто "одержимы Д-ким". .Их интересуют у него вовсе не христианские темы . Как заметил яп. критик:
"Японские читатели и писатели повторяют диалоги с Достоевским, размышляя также о самом себе или о нашем обществе". Тема "Д-ий и Япония" стала традиционной.
Латиноамериканцам так же непонятны “национализм Достоевского и его представления о роли России во всемирной истории ” , “его монархизм и религиозные взгляды для них не что иное, как анахронизм, который ему прощается потому, что до сих пор никто так, как он, не проник в глубины души человеческой, и никто так, как он, столь сильно и одновременно столь художественно не поставил проклятые, преткновенные вопросы существования” .
А в Израиле основные произведения "антисемита" Д-го переведены на иврит и входят в школьную программу.
Как видим, ни пророком, ни
апостолом, ни иконой не является Достоевский для людей иных культур, и
людей таких много - это целые страны, континенты, живущие по другим
законам, в других системах идеологических и эстетических координат.
И ещё хотел бы обратить Ваше внимание на вроде второстепенного, но я считаю, очень важного персонажа - "неверующего семинариста" (Ракитин), злобного богохульника, ненавидящего всех вокруг. Главные "богоборцы" и "богохульники" - это не атеисты, это подобные "неверующие семинаристы".И сегодня, думаю, среди церковников не мало таких. Одного знал лично: чтобы скосить от армии , подался в семинарию. ..
PS
Если хотите глубже понять Д-го-художника, читайте таких литературных критиков как М.М. БАХТИН, Людмила Сараскина, В. Шкловский,И. И. Евлампиев. Некоторых из них я здесь цитировал
.будучи великим художником, он ......
Регрем, не подумайте, что я как-то пытаюсь замять или оправдать порочные наклонности человека-Достоевского. Его ненавистники (Страхов и др) сделали всё возможное, чтобы возбудить отвращение к нему.. Где-то читал, что в детстве Д. любил стегать кнутом лягушек. Могу даже допустить, что как и Смердяков, будущий "христианский пророк" вешал кошек. Что в насквозь порочном "сладострастнике" Фёдоре Павловиче - есть черты самого Д. ..Мне кажутся чудовищными некоторые моменты у Д,, как напр Алёшино "не знаю" в сцене, которую тут упоминали, - его разговор с патологической Лизой Хохлаковой и её "ананасовым компотом"..
Но всё это - меркнет, тушуется перед главным - пониманием Д-им тончайших струн человеческой души, его любовью,вниманием и бесконечным сочувствием к "маленькому" человеку
не подумайте, что я как-то пытаюсь замять или оправдать порочные наклонности человека-Достоевского. Его ненавистники (Страхов и др) сделали всё возможное, чтобы возбудить отвращение к нему.. Где-то читал, что в детстве Д. любил стегать кнутом лягушек. Могу даже допустить, что как и Смердяков, будущий "христианский пророк" вешал кошек.
Да я на это и не обращаю внимание, нигде не выпячивал это.
Наоборот несколько раз говорил в постах, что это не надо рассматривать, например ответил на предоставленный список порочных наклоностей писателя так:
Всё нехорошо, кто спорит с этим.
Но всё-таки Достоевский не убивал, не был маньком.
Можно привести примеры страшных людей, на совести которых человеческие жизни, всякие злодейства.
Но мы их произведения читаем, поем, наслаждаемся.
Не знаю попал ли Достоевский на ютубе в тему "злодеи и гении".
Наверное нет, не тянет, нет злодейств.
Так вот Ф. М. Достоевский лечил души.
Обнажал "болячки" людей, был зараженный ими и показывал как вылечиться.
Но было и такое мое высказывание:
Если бы это была лишь художественная книга, пусть даже гениальная – да разнесли бы автора в пух и прах за его беспутную жизнь, за всё его нечистое. Еще бы и статью приписали ))).
В крайнем случае в православии не признавали бы его чуть не за святого, за пророка...
Хотим мы или не хотим, на первом месте его религиозные и политические возрения. Убери это - ничего не останется, но читать всё-равно можно.
А в Израиле основные произведения "антисемита" Д-го переведены на иврит и входят в школьную программу.
Интересно. Не знал.
Да и вообще я не знаю как и почему его читают вне России. Надо будет как-то выяснить.
Кстати Достоевский не такой уж антесимит по сравнению с другими писателями.
Хотим мы или не хотим, на первом месте его религиозные и политические возрения. Убери это - ничего не останется, но читать всё-равно можно.Убери это - ничего не останется
Жаль, регрем.
Жаль время, потраченноe на эту бесполезную "дискуссию"
Могли бы Вы объяснить, как Вы понимаете пророчества Достоевского, о каких пророчествах речь, сбылись ли они?
Достоевский считается пророком русской революции. Навряд ли кто это будет отрицать.
Другие пророчества касающие России тоже сбываются.
Есть что почитать на тему пророчеств с ссылками на книги Достоевского.
Да и в книге "Братья Карамазовы" мы тоже найдем.
«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Евангелие от Иоанна, глава XII, стих 24).
Почему такой эпиграф выбрал Ф.М. Достоевский к «Братьям Карамазовым»?
Может здесь начинается пророчество?
Не читая книгу можно предположить, что автор книги христианин, верующий в бессмертие. А это самое главное в христианстве.
как Вы понимаете пророчества Достоевского, о каких пророчествах речь, сбылись ли они?
Пророчество о России , произнесенное перед смертью одним из героев романа- памфлета "Бесы", эпиграфом к которому явл.
Евангелие от Луки, Глава 18, 32-36 :
"Эти бесы,...– это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века. Oui, cette Russie que j'aimais toujours. Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого и
выйдут все эти бесы, вся нечистота...
Но больной исцелится"
..."Что вы видите сегодня? Исцелился ли "больной"?
сбылось ли это "предсказание"?
или утопия?
Исцелился ли "больной"?сбылось ли это "предсказание"?
Сегодня у больного уже не туберкулез,или,как тогда называли это-Чахотка...
Сегодня у больного раковое заболевание,с обширными метастазами.
Здесь уже не помогут ни химотерапия,ни облучения,ни операция.
Похоже,что диагноз-летальный исход)))
христианин, верующий в бессмертие. А это самое главное в христианстве.
Конечно же вера в бессмертие - не самое главное в христианстве.
Всего лишь приятный бонус для поверивших в древние фэнтези.
Но ни один христианин не может здраво объяснить, а в чем будет заключаться это самое бессмертие.)))
Тела будут другие, если вообще будут, а что же тогда будет бессмертно - дух, душа?
Что составляет нас самих, нашу личность, наше самоопределение?
Наша память с ее навыками, воспоминаниями и ежесекундной изменчивостью под всевозможным внешним, да и внутренним воздействием.
В раю обещается вечный кайф, а он невозможен без стирания всей отрицательной информации.
И если кого-то греет, что он будет вечно жить непонятно кем и непонятно в каком теле, то я его поздравляю - вера его крепка, логична и вечна, как вечна человеческая глупость.
Может здесь начинается пророчество?
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ
1
Подобно любому крупному писателю — но некоторые это хоть сознают, а иные так и отказываются от рефлексии, — Достоевский начал с того, что первым изобразил национальную болезнь, а кончил тем, что оправдал и полюбил ее: такова уж, видно, особенность писательского ремесла. Так и Гончаров начал с разоблачения обломовщины, а кончил ее моральным оправданием: штольцевщина-то на поверку оказалась похуже, а Обломов сохранил в чистоте свое хрустальное сердце (от ожирения которого и умер: видимо, жир — лучшая обертка для хрусталя). Гоголь начал с критики фарисейства — а умер законченным фарисеем, ополчившимся даже и на собственные писания (тут было что-то вроде аутоиммунного самопожирания, только в духовном смысле). Так и Толстой начал
с критики церкви — а кончил созданием секты, то есть вещи куда более опасной и душевредной, чем любая церковь. Так и Достоевский начал с разоблачения подпольного человека — а кончил его апологией, распространением на все человечество, утверждением его высшей духовности и культурной уникальности. Почему так? Видимо, потому, что писатель может описать лишь то, что есть в нем самом, — а то, что есть в нас, мы хоть и мечтаем искоренить, но в конце концов предпочитаем оправдывать; Достоевский, которого в молодости высмеивали за эгоцентризм и напыщенность, кончил этноцентризмом и напыщенностью такого масштаба, что на форумах «КП» и посейчас пишут: «Достоевский — самый русский! Респект».
Тот экспортный вариант русской души, которого все боятся и которому так же стойко умиляются, создал
именно Достоевский, и более тяжкий грех для писателя, право, трудно выдумать.
2
Подпольный человек из знаменитых «Записок» — несомненный автопортрет, начинавшийся, как большинство писательских автопортретов, с самоненависти, а окончившийся апологией. Если мы узнаем в этом герое себя — но в худшие наши минуты, — нельзя не заметить, что и Достоевский писал его отчасти с себя, поскольку подполье есть в каждом; вопрос лишь в том, как к нему относиться. Некоторые, зная за собой подобные крайности, стыдливо о них умалчивали либо горячо их стыдились; Достоевский превратил их в культ и сделал национальною добродетелью.
Достоевский — и его последователи, в первую очередь Розанов, — наглядно описали и отчасти воплотили собою тот рак русской души, который может обернуться и раковой
опухолью мира, губительной кривизной всей мировой истории, поскольку, как ни жутко это говорить, сегодня Россия стала носителем чудовищной опасности для человечества. Неясно пока, в какой мере нынешнее российское руководство готово развязать последнюю для землян войну, но угрожает оно этим подозрительно часто; уверенность в непобедимости России, в том, что мир никогда не переварит такой огромный кусок, запросто может привести к масштабнейшему из конфликтов. И если будущее, слава Богу, пока утешает неопределенностью, значительная часть российского населения уже сегодня заражена мессианством и верой в то, что России предстоит остановить прагматическую и якобы безбожную западную цивилизацию. Ничего общего с христианством эта вера, само собой, не имеет, поскольку противостоит как раз христианству и воскрешает самые древние языческие предрассудки — националистические, расовые, фашизоидные; но если
Достоевский-художник ясно видел опасности любого фанатизма, то Достоевский-публицист и человек как раз больше всех сделал для культивирования в читателе подобных убеждений, и чем дальше, тем больше их разделял.
Я без восторга отношусь к тем своим соплеменникам, которые судят о том или ином гении, прежде всего исходя из его отношения к евреям: в конце концов, тут слишком многое зависит от среды, биографии, прочих привходящих обстоятельств, — но и делать из антисемитизма великую заслугу тоже не стоит. В конце концов, Достоевский освятил своим сочувствием — чтобы не сказать соучастием — одну из самых дурных страстей, один из самых отвратительных предрассудков, и если мы называем его пророком XX века на том основании, что он своевременно разоблачил революционную чуму, нам следует с
той же прямотой признать, что другую болезнь — нацистскую холеру — он не распознал, и более того, отчасти с нею солидаризировался. Социализм в XX веке наделал бед, но с социализмом и вообще с классовой теорией XX век разобрался; антисемитизм и конспирология — болезнь куда более глубокая, и ее последствия нам еще только предстоит расхлебывать.
«Солженицын эволюционирует, и не обязательно по направлению к небу», — заметил Синявский, публикуя памфлет «Чтение в сердцах»; то же самое можно сказать и о его великом предшественнике, и эта эволюция Достоевского, на мой взгляд, недопонята и, так сказать, недоописана. Между тем в семидесятые она была стремительной и пугающей: Достоевский на глазах становился адептом государства-церкви, заходя в иных публицистических крайностях дальше Константина Леонтьева. Беда даже
не в том, что альтернативой европейскому безбожию ему виделся русский монархизм — монархизм тоже бывает разный; беда именно в том, что в «Карамазовых» Достоевский уже прямо высказывается о благотворности сращения государства и православия, а это сращение Мережковский справедливо называл антихристовым соблазном. Как показал русский опыт, — примеры мы наблюдаем и сегодня — оно одинаково губительно и для государства, и для православия.
Прогресс, разумеется, не панацея, не лекарство от всех болезней; но реакция — в том смысле, в котором говорит о ней Мережковский, — как раз и есть болезнь, и если не всякими лекарствами и не в один день она лечится, это не повод объявлять ее нормальным состоянием организма, а то и формой святости.
3
Как все
эгоцентрики (художнику без этого нельзя, а все же это его свойство бывает выражено в разной степени), Достоевский был в наименьшей степени изобразителем, а в наибольшей — психологом; с годами он явно совершенствовался как полемист и деградировал как художник, и если в «Братьях Карамазовых» все же ощущается местами громадный художественный талант, то там же с наибольшей наглядностью проявилась черта, подмеченная еще Белинским: катастрофическое неумение этим талантом распорядиться. Длинноты, несбалансированность, ненатуральность этой книги не могли бы компенсироваться никакой триумфальной «второй частью», о которой Достоевский предупреждает читателя в прологе. Мы не найдем у Достоевского — как, впрочем, и у Солженицына — большого разнообразия художественных типов: они кочуют из романа в роман. Видоплясов уже почти не отличается от Смердякова, черты Алеши есть в
Мышкине, черты Ивана и Дмитрия — в Свидригайлове, Коля Красоткин копирует Аркадия Долгорукова, Валковский — разновидность Версилова, а уж персонажи второго ряда почти неотличимы. Достоевского-пейзажиста мы почти не знаем — до «Преступления и наказания» включительно он еще снисходит иногда до того, чтобы показать место действия, да и то упирает все больше на оценочные категории, на вонь да жару. Читательскому воображению негде развернуться — все указано, предписано. Что Раскольников «задавлен бедностью» — нам опять же сообщается, а не показывается; вообще у Достоевского всегда понятно, кто плохой, кто хороший. Всегда ясно: если красавец — значит, злодей (редко запомнится деталь вроде мелких ровных зубов Ставрогина). Полно диккенсовских типажей вроде Нелли в «Униженных и оскорбленных» или чудаковатого дядюшки-полковника в «Селе Степанчикове». Собственно художества
все меньше — начиная с «Подростка» психологизм заменен подробными протоколами бесчисленных истерик либо теоретизирований. Зато в публицистике, в фельетонах, в «Дневнике писателя» Достоевский все виртуозней, все неотразимей, — с ним можно не соглашаться (и чаще всего не хочется соглашаться), но каков темперамент, каков слог! Правда, причина еще в том, что, точно почувствовав главную интенцию XX века, поставившего дневник и «человеческий документ» выше традиционной словесности, — он и перешел на дневник, на диктовку, благо стенографистка всегда была под рукой; и, читая позднего Достоевского, мы всегда слышим его хриплую, захлебывающуюся скороговорку. Он и прежнюю свою публицистику писал в высшей степени разговорно, с повторами, с нарочитой полемической фамильярностью — но когда окончательно перешел на диктовку, поистине завоевал читательские сердца, поскольку непосредственности, интимности-то
нам и надо! Многое готовы мы простить писателю за то, что прямо вот этак нас к себе и допустил, дневник перед нами распахнул, ведет, по сути, не то ЖЖ, не то фейсбук — Василий-то Васильич Розанов довел этот прием до полного уже неприличия. И главное-то, главное знаете ли что? Ведь это лесть, прямая лесть. Ведь то, что на твоих как бы глазах, в твоей как бы каморке витийствует в гости забредший писатель, то, что речь его неряшлива, как халат, полна сора отступлений и повторений — ведь это какое наслаждение, какой повод встать с ним на равную ногу! Прямое амикошонство. Потому-то ему и писали все, как родному, прося совета. А еще знаете ли, что я скажу? Ведь это, уж конечно,
по форме не всякая либеральная гладкопись, не потуги на совершенство (которого, между нами-то говоря, и нет), но зато из неряшества, из самого-то сора сделана драгоценность: передано живое дыхание. Обрабатывая, только портишь. Явился к читателю пусть еще и в штанах (без штанов-то уж Василий Васильич пришел, помните его?), но совершенно уже по-свойски, даже и не побрившись, и для чего же русскому человеку бриться? Ведь все мы тут свои, свойские, свинские, и эта-то самая, слышите ли, самая-то эта непрезентабельность нас и роднит, мы не в Европах, к чему нам церемониться!
Видите, как это просто? Даже и тренироваться особо не нужно.
«О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы — эта самая Европа, эта «страна святых
чудес»! Знаете ли вы, как дороги нам эти «чудеса» и как любим и чтим, более чем братски любим и мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли вы, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и родной нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон?» — это «Дневник писателя» 1877 года. Копия сегодняшних рассуждений официальных российских идеологов о том, как мы на самом деле печемся об Украине, несем миру мир и отстаиваем истинные европейские ценности. Увы, и тут подмена! С чего бы окружающему миру — и той самой Европе — верить в вашу любовь к ней, господа? Или вы готовы
любить только залитую кровью Европу крестовых походов? Или цивилизация ненавистна вам лишь потому, что дикость любезна? Сколь прям и краток путь от критики цивилизации до прямой дружбы с фашиками, нам показал уже ваш переимчивый ученик Шпенглер; сколь краток путь от «Скифов» и скифства, от упоения «своею азиатской рожей» к подлинному безумию — продемонстрировал Блок, предавший в «Скифах» свое «Поле Куликово». Иные критики русской революции критикуют ее именно за то, что она была еще недостаточно зверской, что несла России хоть какое-то просвещение — вместо того, чтобы навеки (пока людей хватит) превратить ее в святую благословенную мясорубку. Это вы называете истинной любовью к Европе?
4
Гениальным психологом он был провозглашен за то, что вдумчиво и уважительно изображал самые темные
— а стало быть, самые доступные изображению, яркие, резкие, эффектные — движения человеческой души: все звериное в ней, все, что диктуется завистью и невежеством, похотью и подлым расчетом. Подонки любят, когда о них пишут. Им кажется, что в душе у них бездны! — тогда как в душе у них помойка, заурядная, как банька с пауками. Такими-то подонками — благо их много, и голоса их громки — создана слава Достоевского-психолога; то, в чем он действительно силен — полемика, пародия, публицистика, — вкусу и уму такого читателя совершенно недоступно.
Есть версия, что он на всю жизнь перепугался на Семеновском плацу во время расправы над петрашевцами (ну тогда-то, помните, когда его за чтение вслух письма Белинского к Гоголю сначала приговорили к
расстрелу, потом милостиво заменили его десятилетнею каторгой, потом совсем уж милостиво скостили каторгу до четырех лет плюс солдатчина, а после смены власти, прождав для порядку четыре года, вообще отпустили под негласный надзор, вы можете себе представить такую гуманность царской власти!). Вообще-то это говорил злюка Щедрин про его подельника Плещеева, неплохого, между прочим, поэта — дескать, всю жизнь так и прожил перепуганный; но Плещеева и сам Достоевский называл «блондином во всем». Случай Достоевского сложней, тут не испуг, а стокгольмский синдром в чистом виде: когда тебя приговорили к смерти и за пять минут до расстрела помиловали (а ты эти пять минут уже поделил — минута на мысль о Боге, минута на прощание с родными, минута на обзор своих замыслов и т.д.)
— естественно благодарить за милость, не особо даже вспоминая, был ли ты в чем-либо виноват. Достоевский всю жизнь потом говорил, что благодарен Николаю, не то Бог весть что было бы.
Понятно, почему он вообще пошел в заговор (которого, по сути, не было — это в разное время подробно показали И.Л.Волгин и С.А.Лурье): тут бессознательное искание участи, поскольку русской литературе в последнее николаевское семилетие вообще не о чем было писать, реальности не стало, Гоголь так и задохнулся. Достоевский тоже исписывался, его докаторжные вещи становились хуже и хуже — «Слабое сердце» или «Хозяйку» в самом деле трудно читать без неловкости; и тут жизнь ему подбросила такой жизненный материал и в таком количестве, что он пользовался им до конца дней, и
еще лет на тридцать хватило бы. В сущности, он только с каторги да из криминальной хроники и брал будущие сюжеты. Но цена, заплаченная за это безмерное расширение горизонтов, а по сути — за погружение в полноценный ад, оказалась избыточна, непереносима. Он не то чтобы сломался — можем ли мы сказать «сломалось» о веществе, перешедшем в другое агрегатное состояние? Но любые человеческие попытки переменить жизнеустроение ему были с тех пор отвратительны, потому что — какая может быть революция по сравнению с тем, что он пережил? Можно освободить всех каторжан Мертвого дома, но как превратить их в других людей, кому это по силам, кроме Евангелия — и то не всегда? Собственно, весь Достоевский о том, как вопрос задается в одной плоскости,
а ответ дается в другой. В «Преступлении и наказании» он задан в плоскости отвлеченно-нравственной: можно ли убить старуху, почему бы и не убить старуху, — а ответ дан в физиологической: убить-то можно, но вместо сверхчеловека из убийцы получится раздавленная тварь дрожащая, такова уж особенность человеческой психики. Можно ли устраивать революцию — как в «Бесах»? Можно, но из величайшей свободы именно в силу личной человеческой природы получится величайшее закрепощение. Следовательно, спасаться можно только верой, прошедшей в его случае через горнило сомнений; но значит ли это, что надо терпеть любое социальное зло — только потому, что дело не в нем?
Боюсь, что в своих поисках «положительно прекрасного человека» он этого человека просмотрел — почему Мышкин и вышел у него безнадежно
больным, а работа над книгой шла с таким трудом; он просмотрел ту русскую святость, которую заслонила ему нечаевская бесовщина.
Везде видеть бесов — далеко не признак святости: это, как мы знаем по одному бесогону-современнику, как раз и есть самая подлинная бесовщина. По Достоевскому, святость начинается с падения — и немыслима без падения: «Станьте солнцем — все вас и увидят», — говорит явно автопортретный Порфирий. Но для этого солнце должно очень уж глубоко закатиться. «Я поконченный человек», — говорит о себе Порфирий Петрович, автопортретный даже внешне: желтое лицо, беспрерывные пахитоски, жидкий блеск глаз... Очень может быть, что это правда; что он, с молодости полагавший себя гением и пророком, действительно в иные минуты был тем, кем представлял себя при объяснении
с невестой, Анной Сниткиной: старым, больным, «поконченным» человеком. То есть в конечном итоге — сломанным, сколь ни мало идет к нему это слово. Подполье было для него реальностью, а святость — нет; в реакцию он верил свято, а в революцию — никогда. Двадцатый век, век мерзкий, подтвердил эту правду о человеке — и потому Достоевский стал главным писателем двадцатого века; но не кончилась же история на этом поганом столетии!
5
Никто не отрицает его гениальности, но и гениальность бывает разная; есть гении зла, демоны болезни, пролагатели дорог, ведущих в адские тупики. Подполье ведь и есть, в сущности, реакция человека с великими задатками на уродливую, больную реальность, из которой нет выхода вверх — только вниз. Ведь что такое,
в сущности, подполье, кто такой этот подпольный тип, открытие которого весь мир единогласно признает за ним? Это тип по преимуществу русский, который во всем мире бывает, но только в России расцветает и доминирует; именно на нем основано представление о загадочной русской душе — которая отражает русские падения, но отнюдь не русские взлеты. Это душа прежде всего невоспитанная, привыкшая собою любоваться вместо того, чтобы задуматься о причинах собственной подпольности. Это душа, привыкшая извлекать сок из своего унижения, расчесывать свои язвы — ибо в сумраке русского буквального подполья они неизлечимы; душа, которая самую ненормальность своего положения склонна объявить особостью, исключительностью, небывалой глубиной (хотя это именно глубина падения, а не мысли, допустим). Эта душа больна — и потому неспособна ни к какой
созидательной деятельности, да и откуда бы взяться этой созидательной деятельности там, где умеют только пугать и бояться, мучиться и мучить?
Христианства эта душа не знает. За христианство она принимает юродство, униженность, даже и рабство. «До того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного опять-таки никак не воротишь, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась наконец в какую-то позорную, проклятую сладость и наконец — в решительное, серьезное наслаждение!» И правильно — а где ему взять других наслаждений? Радость общего и свободного труда, например, или
чистую любовь, или творчество, не омраченное постоянным страхом и унижением? В гнилом-то петербургском воздухе? «Где у меня первоначальные причины, на которые я упрусь, где основания? Откуда я их возьму?» — да они две тысячи лет как изложены, и прежде человечество о них догадывалось, но подпольного человека они не устраивают, он в них не верит, он только в падении склонен их отыскивать, а там отыскивается нечто совсем иное, бесконечно уродливое. Подпольный человек только в одном бесспорный чемпион: он всегда может сделать хуже, переиродить ирода. И стать омерзительнее любого врага, и выдумать себе худшую муку — это ему тоже запросто. И этим он думает победить всех! — но ведь победа не этим достигается. И когда подпольный человек ведет пятичасовую воскресную программу
о том, что мы можем быть хуже всех, а другие подпольные люди наперебой ему это доказывают, — это в чистом виде «Записки из подполья» и даже «Бобок», но почему эти подпольные люди во главе с главным своим писателем так уверены, что после смерти только «Бобок»? Потому что ничего другого не видели? Но ведь это очень по-русски — принимать за последнюю правду именно худшее; ведь подполье — это и есть гордиться низостью! Сегодня в это подполье загнана вся страна, исключая сравнительно немногих, и Достоевский здесь первейшее для нее утешение.
Ленин называл его архискверным, и это, конечно, резкость в духе его обычных полемических приемов, когда полемика заменяется кличкой. Но если у Ленина случалась иногда верная в целом литературная догадка, —
что ж нам теперь, отрицать даже здравые его мысли? Если Достоевского ругал литературный палач Ермилов — не тот ли самый палач Ермилов писал потом сдержанно-одобрительное предисловие к его десятитомнику и не потому ли, что чувствовал себя его героем? Не его ли, Федора Михайловича Достоевского, идеями вдохновлялись все авторы русской консервативной публицистики, разнообразных «Вех» либо «Из-под глыб», когда оправдывали реакцию потому лишь, что в очередной раз ничего не получилось? И не сам ли он, поэт падения и бессилия, был главным бесом того самого неосушаемого болота, в котором открылась ему высшая истина?
Впрочем, как не вспомнить его самую точную инкарнацию в XX веке: «Но признаем уже и тут: если у Сталина это все не само получилось, а он это для
нас разработал по пунктам, — он-таки был гений!».
Этот — разработал; и он-таки был гений, да. (Дмитрий Быков)))
Но ни один христианин не может здраво объяснить, а в чем будет заключаться это самое бессмертие.)))
Тела будут другие, если вообще будут, а что же тогда будет бессмертно - дух, душа?
Что составляет нас самих, нашу личность, наше самоопределение?
Здесь не то что христиане не могут объяснить, а просто не берутся это делать, да еще всуе. Этого и не следует делать.
Но каждый имеет представление что это такое бессмертие, ад, рай итд.
Кроме того христианин не может отвечать за всё христианство, ведь есть православные, католики и протестанты, а последние в свою очередь еще делятся.
Атеистам проще высказываться, у них нет различия в отрицании Бога - нет и всё, сказки мол, фантазия.
Атеисты сплоченей чем верующие в вопросах религии.)))
Достоевский так заканчивает книгу словами Алеши:
– Карамазов! – крикнул Коля, – неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?
– Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было, – полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.
Спасибо за статью Д. Л. Быкова
https://www.facebook.com/BykovDmitriyLvovich/posts/9151866...
Я думаю и Boatman спасибо выскажет, скорее всего статья больше для него подходит - ему и отвечать на критику идеальных художествеенных произведений.
Сразу на всю статью не ответишь - надо по пунктам, я выбрал один подходящий из книги, которую мы разбираем:
«Солженицын эволюционирует, и не обязательно по направлению к небу», — заметил Синявский, публикуя памфлет «Чтение в сердцах»; то же самое можно сказать и о его великом предшественнике, и эта эволюция Достоевского, на мой взгляд, недопонята и, так сказать, недоописана. Между тем в семидесятые она была стремительной и пугающей: Достоевский на глазах становился адептом государства-церкви, заходя в иных публицистических крайностях дальше Константина Леонтьева. Беда даже не в том, что альтернативой европейскому безбожию ему виделся русский монархизм — монархизм тоже бывает разный; беда именно в том, что в «Карамазовых» Достоевский уже прямо высказывается о благотворности сращения государства и православия, а это сращение Мережковский справедливо называл антихристовым соблазном. Как показал русский опыт, — примеры мы наблюдаем и сегодня — оно одинаково губительно и для государства, и для православия.
Я потом отвечу на это, ну может кто-нибудь и раньше это сделает.
Достоевский уже прямо высказывается о благотворности сращения государства и православия, а это сращение Мережковский справедливо называл антихристовым соблазном. Как показал русский опыт, — примеры мы наблюдаем и сегодня — оно одинаково губительно и для государства, и для православия.
Это фраза в статье говорит о том,что далеко не все склонны считать Достоевского пророком в положительном смысле.
Достоевский так заканчивает книгу словами Алеши:
– Карамазов! – крикнул Коля, – неужели и взаправду религия говорит, что мы все встанем из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку?
– Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было, – полусмеясь, полу в восторге ответил Алеша.
Как же здорово, что это все взаправду, ведь сам Достоевский говорит...![]()
Атеисты сплоченей чем верующие в вопросах религии.)))
Правильно - религии разделяют людей.
Влезают во все сферы жизни человека, особенно в постель, а затем начинают диктовать свои заповеди.
Да и поверить много ума не надо, гораздо сложнее учиться, приобретать знания и отсекать всю шелуху древних фэнтези.
Что вы видите сегодня? Исцелился ли "больной"?сбылось ли это "предсказание"?или утопия?
Считаю,как это общепризнанно, что Достоевский-великий русский писатель, знаток человеческих душ и болезненной психики человека. Пророком не считаю. Все революции универсальны и виноват в них господствующий класс. В период написания романов Д. основная масса народа находилась в крайней нищете.
Как же здорово, что это все взаправду, ведь сам Достоевский говорит...
Да нет, здесь не в том смысле, что Достоевский является авторитетом для верующих и они могут сослаться на слова писателя, мол вот сам Достоевский верил в бесмертие, и как здесь и нам не верить. Нет конечно. Просто Достоевский выступает великим грешником, который верует в своих произведениях в бесмертие, вот и приведены его высказвания из книги, это больше для атеистов, вот мол сам Достоевский верил каялся тянулся к светлому чистому, а ты что медлишь!
Мне нравится культ Карго.
Мирные доверчивые и безобидные были люди.
Пастфарианство тоже ничего...
А для тех, кому интересны научные знания, например, из области ху из ху:
https://sevastian-mos.livejournal.com/40102.html
Получаю большое удовольствие от чтения почти всего этого журнала, а не только этой статьи.