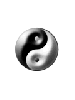Login
рассизм большевиков
22.02.10 20:11
Расизм.
сомое простое определение этого явления есть различЕние людей и их «оценка» по их биологическому происхождению.
Профессор Robert Miles определяет рассизм как процесс создания конструкций и условностей феноптипного или генетического характера для категоризации людей.
Это выделение различий приводило к самым массовым преступлениям или отвратительным явлениям, как: аппартаид, рабство, этнические чистки....В последнем
столетии примеров таких преступлений было очень много.
Есть и такое определение рассизма:
Француский социолог Albert Memmi определяет рассизм как — выделение каких то
свойств у человека или группы людей и их использование в интересах другой группы.
Причем не делается различие между лежащих в основе расизма критериев по биологическим, экономическим,
психологическим или каким другим признакам.
Расизм есть обвинения одних для получения привилегий другими.
Особые в сравнении с европейскими были развиты формы расизма в азиатских странах.
Самая известная это кастовая система в Индии. Кастовая система в Индии,
несмотря на демократический строй, является и сегодня ещё главным фактором
определяющим жизнь человека сразу от рождения.
Тут можно более подробно почитать о причинах и видах рассизма:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus
Есть также определение расизма как расизм без рас. Rassismus ohne Rassen
Выделение и категоризация людей по их историческим, социальным или культурным
различиям. Мотивом такой категоризации тоже является цель получения преимуществ одной группы людей в сравнении с другой.
Крайним проявлением такого расизма есть национализм без нации. Если мы поищем в актуальной политике или истории
некоторых современных государств то найдём подобные примеры. Такие явления не обязательно могут называться расизмом.
Больше об этом можно прочитать к примеру тут:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus_ohne_Rassen
Тема для дискуссии предлагается мною не вообще расизм и его роль в современной жизни обществ или государств.
Я предлагаю рассмотреть конкретное историческое событие, самое массовое уничтожение людей не в военное время,
причем своих граждан через «своё» правительство - политику большевиков по отношению к российскому/советскому крестьянству.
Можно ли это массовое уничтожение людей объяснить не ошибками большевистской политики, а расизмом большевизма.
Уж слишком большими были жертвы среди крестьян, чтобы объяснить эти миллионы погибших ошибками политики или конкретных людей.
Моё мнение по теме:
Политика большевизма по отношению к крестьянству есть расизм.
Целью этого расизма было уничтожение некоторой самостоятельности крестьянства как самостоятельной социальной группы/слоя (по большевизму класса)группы.
Конкретно закабаление крестьян иначе получения определённой группой людей преимуществ над другой группой людей. Как всегда это достигалось через насилие.
В этом конкретном случае самым массовым насилием над определённой социальной группой вызвавшей самый большой мор людей в истории Европы.
сомое простое определение этого явления есть различЕние людей и их «оценка» по их биологическому происхождению.
Профессор Robert Miles определяет рассизм как процесс создания конструкций и условностей феноптипного или генетического характера для категоризации людей.
Это выделение различий приводило к самым массовым преступлениям или отвратительным явлениям, как: аппартаид, рабство, этнические чистки....В последнем
столетии примеров таких преступлений было очень много.
Есть и такое определение рассизма:
Француский социолог Albert Memmi определяет рассизм как — выделение каких то
свойств у человека или группы людей и их использование в интересах другой группы.
Причем не делается различие между лежащих в основе расизма критериев по биологическим, экономическим,
психологическим или каким другим признакам.
Расизм есть обвинения одних для получения привилегий другими.
Особые в сравнении с европейскими были развиты формы расизма в азиатских странах.
Самая известная это кастовая система в Индии. Кастовая система в Индии,
несмотря на демократический строй, является и сегодня ещё главным фактором
определяющим жизнь человека сразу от рождения.
Тут можно более подробно почитать о причинах и видах рассизма:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus
Есть также определение расизма как расизм без рас. Rassismus ohne Rassen
Выделение и категоризация людей по их историческим, социальным или культурным
различиям. Мотивом такой категоризации тоже является цель получения преимуществ одной группы людей в сравнении с другой.
Крайним проявлением такого расизма есть национализм без нации. Если мы поищем в актуальной политике или истории
некоторых современных государств то найдём подобные примеры. Такие явления не обязательно могут называться расизмом.
Больше об этом можно прочитать к примеру тут:
http://de.wikipedia.org/wiki/Rassismus_ohne_Rassen
Тема для дискуссии предлагается мною не вообще расизм и его роль в современной жизни обществ или государств.
Я предлагаю рассмотреть конкретное историческое событие, самое массовое уничтожение людей не в военное время,
причем своих граждан через «своё» правительство - политику большевиков по отношению к российскому/советскому крестьянству.
Можно ли это массовое уничтожение людей объяснить не ошибками большевистской политики, а расизмом большевизма.
Уж слишком большими были жертвы среди крестьян, чтобы объяснить эти миллионы погибших ошибками политики или конкретных людей.
Моё мнение по теме:
Политика большевизма по отношению к крестьянству есть расизм.
Целью этого расизма было уничтожение некоторой самостоятельности крестьянства как самостоятельной социальной группы/слоя (по большевизму класса)группы.
Конкретно закабаление крестьян иначе получения определённой группой людей преимуществ над другой группой людей. Как всегда это достигалось через насилие.
В этом конкретном случае самым массовым насилием над определённой социальной группой вызвавшей самый большой мор людей в истории Европы.
22.02.10 20:40
крестьяне это не расса, а социальный класс и цель была путём голодной смерти загнать в колхоз.
in Antwort Onkel Karl 22.02.10 20:11
В ответ на:
Политика большевизма по отношению к крестьянству есть расизм.
Политика большевизма по отношению к крестьянству есть расизм.
крестьяне это не расса, а социальный класс и цель была путём голодной смерти загнать в колхоз.
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
22.02.10 21:02
Я уже об этом неоднократно писал здесь на сайте, что при помощи голода из самостоятельных крестьян сделали фактически "рабов/крепостных": колхозникам долгое время зарплату вообще не платили, паспорта также не выдавали, но насильно заставляли работать - почти классический рабовладельческий строй... Но как известно рабский труд не самый производительный, а потом, когда начали выдавать паспорта, то кто как мог уезжал из деревни - вот и стало не хватать стране многих повседневных продуктов питания, что и явилось одной из причин "Перестройки", а потом и полного распада страны...
П.С. Только всё-таки термин расизм подразумевает немного другое...
in Antwort Onkel Karl 22.02.10 20:11, Zuletzt geändert 22.02.10 21:05 (joueur)
В ответ на:
Конкретно закабаление крестьян иначе получения определённой группой людей преимуществ над другой группой людей. Как всегда это достигалось через насилие.
Конкретно закабаление крестьян иначе получения определённой группой людей преимуществ над другой группой людей. Как всегда это достигалось через насилие.
Я уже об этом неоднократно писал здесь на сайте, что при помощи голода из самостоятельных крестьян сделали фактически "рабов/крепостных": колхозникам долгое время зарплату вообще не платили, паспорта также не выдавали, но насильно заставляли работать - почти классический рабовладельческий строй... Но как известно рабский труд не самый производительный, а потом, когда начали выдавать паспорта, то кто как мог уезжал из деревни - вот и стало не хватать стране многих повседневных продуктов питания, что и явилось одной из причин "Перестройки", а потом и полного распада страны...
П.С. Только всё-таки термин расизм подразумевает немного другое...
22.02.10 21:04
in Antwort 4atlanin 22.02.10 20:40
Что крестьяне есть социальная/экономическая группа знаю без Вас.
По большевистски даже класс. Враждебный им класс. Но на этой ветке я не предлагаю
дискутировать про большевистское определение крестьянства.
Почитайте мои ссылки. Там есть определения расизм без рас и критерии такого явления.
По большевистски даже класс. Враждебный им класс. Но на этой ветке я не предлагаю
дискутировать про большевистское определение крестьянства.
Почитайте мои ссылки. Там есть определения расизм без рас и критерии такого явления.
22.02.10 21:18
in Antwort Onkel Karl 22.02.10 21:04
чесно скажу что расизма без рас не бывает, ибо он основан на разделении рас и превосходстве одной над другой.
Завтра какой-нибудь "мудрец" напишет "нацизм без наций", что будем кого-то нового обвинять и кого-то оправдывать?
Завтра какой-нибудь "мудрец" напишет "нацизм без наций", что будем кого-то нового обвинять и кого-то оправдывать?
http://www.youtube.com/watch?v=9eOn1jhgGUk&feature=related
22.02.10 21:23
in Antwort joueur 22.02.10 21:02
22.02.10 21:25
Ну, если уж вспоминать постулаты ленинизма, то класс союзный.
in Antwort Onkel Karl 22.02.10 21:04
В ответ на:
Что крестьяне есть социальная/экономическая группа знаю без Вас.
По большевистски даже класс. Враждебный им класс.
Что крестьяне есть социальная/экономическая группа знаю без Вас.
По большевистски даже класс. Враждебный им класс.
Ну, если уж вспоминать постулаты ленинизма, то класс союзный.
Данное сообщение создано инопланетным агентом выполняющим на территории России функции рептилоида. Короче редкостная тварь
22.02.10 21:29
in Antwort Пух 22.02.10 21:25
так по ленину/троцкому/сталину и все народы были братскими.....
неужели не можете найти сами пару высказываний Владимира Ильича о середняках, кулаках ....
неужели не можете найти сами пару высказываний Владимира Ильича о середняках, кулаках ....
23.02.10 20:54
Расизм без рас - это нонсенс. Большевистский геноцид крестьян - не расизм.
in Antwort Onkel Karl 22.02.10 20:11, Zuletzt geändert 23.02.10 20:56 (*Igor P.)
В ответ на:
Есть также определение расизма как расизм без рас.
Политика большевизма по отношению к крестьянству есть расизм.
Есть также определение расизма как расизм без рас.
Политика большевизма по отношению к крестьянству есть расизм.
Расизм без рас - это нонсенс. Большевистский геноцид крестьян - не расизм.
Leopolis semper fidelis!
23.02.10 21:49
in Antwort 4atlanin 22.02.10 20:40
Die genaue Herkunft des Wortes „Rasse“ ist unklar, es werden unterschiedliche, stark voneinander abweichende, Erklärungen vertreten. In der Literatur werden häufig Ableitungen vom lateinischen „radix“ (Wurzel im genealogischen Sinne), von „generatio“ (Geschlecht im genealogischen Sinne, aber auch „Art“, im Sinne von „Wesen eines Dings“), sowie „ratio“ (ebenfalls in der Bedeutung „Wesen eines Dings“ oder „Art und Weise“) beschrieben.[1] Eine alternative Herleitung des Wortes führt nach Spanien und wird als Hispanisierung des arabischen رأس / raʾs /„Kopf, Ursprung“ zu raza gedeutet.[2] Belegt sind einzelne Verwendungen in den romanischen Sprachen seit dem frühen 13. Jahrhundert.[1]
Die früheste bislang bekannte Verwendung in der spanischen Literatur erfolgte 1438 durch den Priester Alfonso Martínez de Toldedo:
„Man nehme zwei Söhne an, den eines Bauern und den eines Ritters: Beide wüchsen im Gebirge unter der Erziehung eines Mannes und eines Weibes auf. Du wirst sehen, dass der Bauer sich weiterhin über die Dinge eines Dorfes, so wie ackern, graben und Holz mit dem Vieh einsammeln, erfreuen wird; und der Sohn des Ritters wird sich nur dann erfreuen, wenn er reitend Waffen zu horten vermag und Messerstiche erteilen darf. Dies beabsichtigt die Natur, so wirst Du dieses in jenen Orten, in denen Du leben wirst, Tag für Tag beobachten können, so dass der Gute einer guten Rasse [rraça] von seiner Herkunft angezogen wird und der Benachteiligte, einer gemeinen Rasse [rraça] und Herkunft angehörig, unabhängig wer er ist und wie reich er sein mag, sich niemals von einer anderen Herkunft angezogen fühlen wird, als woher er ursprünglich stammt.[3]“
Rasse war zu dieser Zeit weder positiv noch negativ konnotiert. Der Verfasser verwandte „Rasse“ wertneutral im Sinne von „Herkunft“ oder „Geschlecht“, und nahm die Wertung durch eine zusätzliche Attributierung vor (gute Rasse; schlechte Rasse). Jedoch beinhaltet dieser frühe Text bereits die Vorstellung unveränderlicher, durch Natur und Abstammung festgelegter Wesenszüge.[4] Abweichend von der späteren naturwissenschaftlichen Bedeutung, einer durch gemeinsame somatische Merkmale gekennzeichneten Grupp
http://de.wikipedia.org/wiki/Rasse
Die früheste bislang bekannte Verwendung in der spanischen Literatur erfolgte 1438 durch den Priester Alfonso Martínez de Toldedo:
„Man nehme zwei Söhne an, den eines Bauern und den eines Ritters: Beide wüchsen im Gebirge unter der Erziehung eines Mannes und eines Weibes auf. Du wirst sehen, dass der Bauer sich weiterhin über die Dinge eines Dorfes, so wie ackern, graben und Holz mit dem Vieh einsammeln, erfreuen wird; und der Sohn des Ritters wird sich nur dann erfreuen, wenn er reitend Waffen zu horten vermag und Messerstiche erteilen darf. Dies beabsichtigt die Natur, so wirst Du dieses in jenen Orten, in denen Du leben wirst, Tag für Tag beobachten können, so dass der Gute einer guten Rasse [rraça] von seiner Herkunft angezogen wird und der Benachteiligte, einer gemeinen Rasse [rraça] und Herkunft angehörig, unabhängig wer er ist und wie reich er sein mag, sich niemals von einer anderen Herkunft angezogen fühlen wird, als woher er ursprünglich stammt.[3]“
Rasse war zu dieser Zeit weder positiv noch negativ konnotiert. Der Verfasser verwandte „Rasse“ wertneutral im Sinne von „Herkunft“ oder „Geschlecht“, und nahm die Wertung durch eine zusätzliche Attributierung vor (gute Rasse; schlechte Rasse). Jedoch beinhaltet dieser frühe Text bereits die Vorstellung unveränderlicher, durch Natur und Abstammung festgelegter Wesenszüge.[4] Abweichend von der späteren naturwissenschaftlichen Bedeutung, einer durch gemeinsame somatische Merkmale gekennzeichneten Grupp
http://de.wikipedia.org/wiki/Rasse
24.02.10 18:58
in Antwort Onkel Karl 22.02.10 20:11
Зачем на ровном месте выдумывать определения, чтобы загонять самого себя в тупик? В немецком на эту тему есть точное выражение: Wissenschaft für sich.
1. Политику большевиков по отношению к крестьянству следует разделять на временные периоды. Коллективизация - это один из эпизодов взаимоотношений правящей элиты СССР с крестьянством. Хрущев, например, очень даже заигрывал с крестьянами, Брежнев тоже, отсюда и послабления в колхозах. Да и горожан "притягивали" к земле: 10 соток, разрешение строить дачи. Поэтому мы должны выделять определенный временной период.
2. Если мы говорим о довоенном периоде, точнее с момента т.н. Великого перелома и до начала ВОВ, то и тут никаким расизмом-геноцидом не пахнет. В отличие от Гитлера, Сталин фанатиком не был, а был ярко выраженным прагматиком. Без всякого "люблю-не люблю" (а любой расизм подразумевает личностную оценку и изрядную долю эмоций) ставил перед собой цель и достигал ее любыми средствами, не считаясь с человеческими жизнями. Задачу уничтожить две трети населения страны он перед собой не ставил. Наоборот, всячески демонстрировал свою симпатию крестьянству. Критиковал, но хотел "подтянуть" в ряды большевиков: "Я не виню крестьян, потому что их колебания объясняются недостаточной сознательностью. Но я должен говорить правду в глаза, если я коммунист. Так учил нас Ленин. А правда состоит в том, что в минуту трудную, когда Колчак и Деникин напирали на рабочих, крестьянство, как союзник рабочего класса, не всегда проявляло достаточную стойкость и твердость.
Значит ли это, что можно махнуть рукой на крестьянство, как делают это теперь некоторые неразумные товарищи, не считающие вообще крестьянство союзником пролетариата? Нет, не значит. Махнуть рукой на крестьянство – значит совершить преступление и против рабочих, и против крестьян. " 1926 г., О крестьянстве как союзнике рабочего класса http://grachev62.narod.ru/stalin/t8/t8_04.htm
Банальные истины: Сталин развернул внутрипартийную дискуссию о методах достижения конкретной цели: форсированной индустриализации страны в его понимании. Устраивавшего его ответа он не услышал. Для новых заводов-пароходов доходов от продажи Рембрандта и икон, а также прочих Торксинов, явно не хватало. Вот и было принято решение ограбить крестьянство. Ничего личного! И никакого расизма.
3. Для прдтверждения Ваших изысканий нужно иметь две "конкурирующие" группы. Белые-черные, нацисты-евреи, католики-гугеноты. Вы и сами пишете: "Конкретно закабаление крестьян иначе получения определённой группой людей преимуществ над другой группой людей." Если Вы берете крестьянство в качестве одной группы, то где же вторая, подходящая по критериям национальная, социальная или религиозная группа? Большевики были многонациональны и мультисоциальны. В рядах большевиков было масса крестьянства и даже ряд вождей имели крестьянское происхождение. Религию мы вообще в расчет не берем, т.к. крестьян преследовали явно не за икону в углу избы. Так в чем же конфликтная линия, чтобы она подходила под расизм?
1. Политику большевиков по отношению к крестьянству следует разделять на временные периоды. Коллективизация - это один из эпизодов взаимоотношений правящей элиты СССР с крестьянством. Хрущев, например, очень даже заигрывал с крестьянами, Брежнев тоже, отсюда и послабления в колхозах. Да и горожан "притягивали" к земле: 10 соток, разрешение строить дачи. Поэтому мы должны выделять определенный временной период.
2. Если мы говорим о довоенном периоде, точнее с момента т.н. Великого перелома и до начала ВОВ, то и тут никаким расизмом-геноцидом не пахнет. В отличие от Гитлера, Сталин фанатиком не был, а был ярко выраженным прагматиком. Без всякого "люблю-не люблю" (а любой расизм подразумевает личностную оценку и изрядную долю эмоций) ставил перед собой цель и достигал ее любыми средствами, не считаясь с человеческими жизнями. Задачу уничтожить две трети населения страны он перед собой не ставил. Наоборот, всячески демонстрировал свою симпатию крестьянству. Критиковал, но хотел "подтянуть" в ряды большевиков: "Я не виню крестьян, потому что их колебания объясняются недостаточной сознательностью. Но я должен говорить правду в глаза, если я коммунист. Так учил нас Ленин. А правда состоит в том, что в минуту трудную, когда Колчак и Деникин напирали на рабочих, крестьянство, как союзник рабочего класса, не всегда проявляло достаточную стойкость и твердость.
Значит ли это, что можно махнуть рукой на крестьянство, как делают это теперь некоторые неразумные товарищи, не считающие вообще крестьянство союзником пролетариата? Нет, не значит. Махнуть рукой на крестьянство – значит совершить преступление и против рабочих, и против крестьян. " 1926 г., О крестьянстве как союзнике рабочего класса http://grachev62.narod.ru/stalin/t8/t8_04.htm
Банальные истины: Сталин развернул внутрипартийную дискуссию о методах достижения конкретной цели: форсированной индустриализации страны в его понимании. Устраивавшего его ответа он не услышал. Для новых заводов-пароходов доходов от продажи Рембрандта и икон, а также прочих Торксинов, явно не хватало. Вот и было принято решение ограбить крестьянство. Ничего личного! И никакого расизма.
3. Для прдтверждения Ваших изысканий нужно иметь две "конкурирующие" группы. Белые-черные, нацисты-евреи, католики-гугеноты. Вы и сами пишете: "Конкретно закабаление крестьян иначе получения определённой группой людей преимуществ над другой группой людей." Если Вы берете крестьянство в качестве одной группы, то где же вторая, подходящая по критериям национальная, социальная или религиозная группа? Большевики были многонациональны и мультисоциальны. В рядах большевиков было масса крестьянства и даже ряд вождей имели крестьянское происхождение. Религию мы вообще в расчет не берем, т.к. крестьян преследовали явно не за икону в углу избы. Так в чем же конфликтная линия, чтобы она подходила под расизм?
25.02.10 21:29
Уверены?
Воинствующие атеисты, против верующих.
in Antwort DVS 24.02.10 18:58
В ответ на:
Религию мы вообще в расчет не берем, т.к. крестьян преследовали явно не за икону в углу избы.
Религию мы вообще в расчет не берем, т.к. крестьян преследовали явно не за икону в углу избы.
Уверены?
Воинствующие атеисты, против верующих.
25.02.10 21:36
Истреблялось Православие, как конкурентная религия иудаизму.
in Antwort DVS 24.02.10 18:58
В ответ на:
Религию мы вообще в расчет не берем, т.к. крестьян преследовали явно не за икону в углу избы.
За религию преследовали не крестьян, а православное духовенство.Религию мы вообще в расчет не берем, т.к. крестьян преследовали явно не за икону в углу избы.
Истреблялось Православие, как конкурентная религия иудаизму.
25.02.10 21:48
in Antwort -Archimed- 25.02.10 21:36
25.02.10 23:05
in Antwort -Archimed- 25.02.10 22:08
http://www.zaimka.ru/05_2002/dobronovskaya_secularize/
Особенно недовольны нововведениями в сфере вероисповедания были крестьяне, так как советские преобразования кардинально изменяли их образ жизни. Случалось, прихожане защищали священников при арестах, составляли приговоры сельских обществ, одобряющие деятельность приходского духовенства и замалчивающие агитацию священнослужителей. Были даже случаи активного сопротивления органам власти[8].
Деревенские жители противились изъятию из церквей метрических книг, составлению описей церковного имущества, отказывались отдавать ключи от церковных зданий, не желали признавать законными решения по церковным вопросам, принятые в обход сельского схода. Они возмущались отсутствием в школах икон и занятий, посвященных Закону Божьему, запрещали детям посещать такие школы. Нередки были случаи преподавания в школе «по-старому»[9].
Сельское население открыто возмущалось тем, что нужно ходить в комячейки, взявшие на себя функции местных органов власти, за разрешением привезти в деревню «попа», что коммунисты преследуют религию и не дают молиться, что церкви превращаются в театры, школы и конюшни, что запрещают звонить в колокола. Ими распространялись призывы к возрождению «Святой церкви» и восстановлению преподавания Закона Божьего в школах[10]. Информационные сводки советских и партийных органов губернии констатируют «сильный фанатизм» крестьян по отношению к церкви и их «доверие к духовенству».
В дальнейшем противостояние властных структур и населения губернии по вероисповедным вопросам только усилилось. Были прямые нарушения декрета, когда священникам запрещалось венчать, хоронить и крестить, не признавались церковные браки, заключенные в период правления Колчака. При этом местные органы власти, в первую очередь, партийной, продолжали практиковать аресты и убийства священнослужителей, выселение их из населенных пунктов. Часто эти решения принимались ими самостоятельно без непосредственного обращения за санкциями в вышестоящие инстанции. Правда, иногда представители органов власти пытались заручиться поддержкой населения. Они выносили решение таких вопросов на сельские сходы, что являлось прямым нарушением советского законодательства — вмешательством во внутрицерковные дела.
В свою очередь, население противодействовало исполнению советского декрета. С его стороны были нередки случаи преподавания в школе Закона Божьего. Прихожане защищали храмы, из общественных доходов производили отчисления на содержание духовенства и церквей[11].
Недовольство жителей губернии методами проведения политики вероисповедания советской власти, ее вмешательством во внутрицерковные дела стало еще более ощутимым при проведении кампании по вскрытию святых мощей, которая была предпринята местными органами власти в связи с изданием постановления Совнаркома от 30 июля 1920 г. «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе». В результате Енисейским губкомом РКП(б) 21 июля 1921 г. было отменено вскрытие мощей Василия Мангазейского[12].
Провозглашенное Советской властью отделение церкви от государства и школы от церкви, в результате которого собственность религиозных организаций объявлялась «народным достоянием», было продолжено в 1921 — 1922 гг. и закончилось изъятием церковных ценностей не только из закрытых церквей и монастырей, но и из всех действующих православных храмов. Поводом для изъятия ценностей послужил массовый голод, разразившийся в стране в 1921 г.
Первые известия о голоде вызвали значительное общественное движение в помощь пострадавшим. В него включились многие светские и церковные организации в России и за рубежом. Во всех храмах и среди отдельных групп верующих начался сбор денег в помощь голодающим. В этих благотворительных акциях принимали участие и религиозные общины Енисейской губ. В сентябре 1921 г. общие собрания приходских религиозных общин Енисейского уезда, а в октябре 1922 г. Минусинского уезда, приняли постановления об оказании помощи жителям Поволжья через религиозные общины. Епископ Назарий поддержал этот почин, призвав в своем обращении в ноябре 1921 г. паству к сбору пожертвований[13].
Первоначально общесибирские и губернские власти не возражали против подобной инициативы. В августе 1921 г. на заседании Сиббюро ЦК РКП(б) было разрешено организовывать на территории Сибири частные комитеты помощи голодающим[14]. Несколько позже решение было изменено. Все пожертвования, собранные через религиозные общества, должны были поступать на общих основаниях в пункты, указанные волостными комитетами помощи голодающим. Общинам разрешалось только ввести в них по одному представителю[15].
В конце января 1922 г. Сиббюро ЦК РКП(б) вынуждено было поддержать акцию «Неделя помощи голодающим Поволжья», организованную Красным Крестом. В связи с этим в феврале епископ Красноярский и Енисейский Назарий был приглашен в губисполком, где ему было предложено принять участие в ее организации[16]. Население же губернии было призвано «любыми средствами» оказать немедленную помощь пострадавшим от голода. В общесибирских и губернских газетах появились статьи, главным содержанием которых стали призывы церковное золото обменять на хлеб голодным[17].
Со времени принятия постановления ВЦИК от 16 февраля 1922 г., которое декларировало принудительную сдачу «всех драгоценных предметов из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа», начался отсчет масштабной общероссийской кампании по изъятию церковных ценностей. Для беспрепятственного проведения кампании заранее была подготовлена соответствующая база. 2 января 1922 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О ликвидации церковного имущества», по которому все церковное имущество подлежало учету и закреплению за различными советскими учреждениями. По официальной версии продажа церковных богатств должна была дать необходимые средства для ликвидации продовольственных затруднений[18].
Как считают Н. Н. Покровский и С. Г. Петров, в первых числах марта перед органами и лицами, занимавшимися повседневным руководством кампанией, встал вопрос о создании в масштабах всей страны особого механизма для изъятия церковных ценностей. 10 марта 1922 г. была создана центральная комиссия «для руководства работой» по «изъятию ценностей из церквей», а 20 марта 1922 г. Политбюро ЦК приняло решение о создании сети комиссий[19].
Необходимо внести небольшое уточнение. На местах первые комиссии по изъятию церковных ценностей были созданы в связи с проведением в жизнь постановления ВЦИК от 16 февраля 1922 г.[20]
12 марта 1922 г. «межведомственная комиссия по изъятию церковных ценностей» в Енисейской губернии приступила к работе. К сожалению, точный состав комиссии установить невозможно за неимением в протоколе ее заседания данных о присутствующих. Это подтверждает ее «секретный» характер. А наличие данного протокола заседания комиссии в делах Енисейского губкома РКП(б) и то, что возглавлял ее член президиума, указывает на решающую роль партии в работе комиссии. Впрочем, роль силовых структур в создании и деятельности этой комиссии выяснить по партийным документам невозможно, хотя и недооценивать ее нельзя.
В основу работы Енисейской губернской комиссии легла директива, данная высшим партийным органом, которая отвергала постепенное и бесконфликтное проведение кампании, требовала быстрого и повсеместного изъятия ценностей, разгрома Церкви[21].
12 марта 1922 г. комиссия утвердила план работы. Она обязала губюст на следующем заседании представить подробные сведения об имуществе конфискованном, а также еще находившемся в ликвидированных храмах, представить подробный список церквей, синагог, костелов и других богослужебных зданий Красноярска для установления очередности изъятия из них ценностей.
Губернская комиссия постановила организовать уездные комиссии в Канске, Минусинске, Красноярске и Туруханске в составе представителей уисполкомов, помголов и уфинотделов, а в Ачинске и Минусинске — дополнительно, в силу ожидавшегося наиболее активного противодействия изъятию церковных ценностей — комиссии под председательством особоуполномоченных губисполкома[22].
До конца марта 1922 г. губернская комиссия вела подготовку и проверку списков предназначенного для изъятия церковного имущества. Начало фактического изъятия было намечено на «послепасхальную» неделю[23].
Информационные сводки ГПУ за март 1922 г. дают достаточно полную картину восприятия населением губернии действий органов Советской власти по подготовке к изъятию церковных ценностей. Они свидетельствуют, что верующие были возбуждены слухами об изъятии церковных ценностей и настроены неприязненно в отношении предстоящей кампании. Отношение духовенства к этому мероприятию также было враждебным. У епископа Красноярского и Енисейского Назария состоялось совещание. Все присутствовавшие резко возражали против происходившего, и только один священнослужитель предложил «не поднимать никакого шума, предоставив… [это] исключительно самим верующим»[24].
Енисейский губернский отдел ГПУ для того, чтобы обезопасить себя в дальнейшем от обвинений в применении насилия к духовенству во время изъятия церковных ценностей, проинформировал власти об «усилении контрреволюционной работы духовенства, принимающей организованные формы». Однако в информационной сводке отдела управления Енгубисполкома за это время, наоборот, отмечалось, что «антисоветской агитации духовенства и его контрреволюционных выступлений (в губернии) не наблюдалось»[25].
В конце марта 1922 г. Енисейская губернская комиссия и губком РКП(б) решили легализовать подготовку к кампании и заручиться поддержкой части населения, для чего в губернии было намечено провести ряд беспартийных конференций. Число проведенных конференций точно установить невозможно. В основном они проводились в городах и поселках с преобладанием рабочих: в Красноярске, Канске, Иланске. О составе присутствовавших можно судить вполне определенно: это были рабочие и красноармейцы, высказавшиеся под влиянием агитационно-пропагандист-ской кампании за немедленное изъятие церковных ценностей. Верующие же, собиравшиеся в церквах, в большинстве случаев выносили иные постановления: «Ценностей не сдавать, заменить их другими вещами и продовольствием»[26].
Весь апрель 1922 г. в губернии шла подготовительная работа к изъятию церковных ценностей. В связи с получением очередного указания Сиббюро ЦК РКП(б) была развернута дополнительная агитационная кампания в воинских частях и профсоюзах. Под руководством агитпропотдела Енисейского губкома РКП(б) был проведен ряд красноармейских митингов, посвященных вопросу изъятия церковных ценностей. По сведениям Енисейского губкома РКП(б), почти все военнослужащие поддержали позицию властей: во всех воинских частях, находившихся в Красноярске, было не более 60-100 человек воздержавшихся.
Кроме того, для «устрашения» населения непосредственно перед самым изъятием ценностей была проведена вооруженная демонстрация воинских частей. Она произвела «очень сильное впечатление» на население Красноярска и несколько приглушила его волнения. Но Енисейский губком РКП(б) все же опасался народных масс, так как даже рабочие, выступавшие за изъятие, не были полностью уверены в том, что церковные ценности будут использованы по назначению[27].
По-иному обстояло дело в других населенных пунктах губернии. В таких городах, как Минусинск и Енисейск, даже коммунисты, не говоря уже об остальных слоях населения, высказались против изъятия. Воинские части, стоявшие в Канске, совсем отказались участвовать в предстоящей кампании.
К концу апреля 1922 г. епископ Красноярский и Енисейский Назарий получил резолюции приходских собраний губернии по этому вопросу. Отовсюду поступили сведения, что население не желает отдавать ценности из церквей и готово противодействовать духовенству в случае, если последнее решит сдать ценности. В своих информационных сводках местные органы ГПУ признавались, что «изъятие, еще не начавшись, во многих волостях губернии уже сорвано». Духовенство же, в том числе сам епископ, понимало, что их прямое противодействие кампании только приведет к кровопролитию, и призывало верующих не оказывать сопротивления органам местной власти[28].
Кампания по изъятию церковных ценностей в губернии началась 28 апреля 1922 г., как и предписывалось директивой Центра, с самого главного и наиболее значимого храма губернии — кафедрального собора Красноярска. 30 апреля изъятие в городе продолжилось и завершилось 8 мая. За это время в кафедральном соборе комиссия побывала четыре раза, в кладбищенской церкви — два, в остальных церквах — по одному разу. Конфисковывалось все, даже предметы, необходимые для богослужения: дарохранительницы, потиры, кувшины, лампады, кадила, наперстные кресты. В Покровской церкви 8 мая комиссия забрала серебряные Царские врата Главного алтаря и облачения с престолов. В уездах изъятие затянулось до середины июня, а в некоторых населенных пунктах до августа. Большая часть собранных на периферии ценностей до конца лета еще не была доставлена в губернский центр[29].
Отчеты, информационные сводки и письма Енисейского губкома РКП(б) и ГПУ не дают полного ответа на вопрос о причинах столь длительного проведения кампании в губернии, которая должна была закончиться еще к концу мая. В апреле 1922 г. губком РКП(б) оптимистично указывал, что серьезного сопротивления в губернии не будет, и изъятие должно пройти сравнительно безболезненно[30]. В более поздних по срокам информационных письмах, например, за июнь 1922 г., он был настроен уже менее оптимистически. Задержку окончания кампании губком объяснял рядом таких объективных причин, как территориальные масштабы губернии и осторожность местных органов власти при проведении изъятия.
В письмах Енисейского губкома отмечалось несколько небольших инцидентов между комиссией и верующими, свидетельствовавших о саботаже и даже о сопротивлении населения изъятию. Так, представители религиозных общин отказывались участвовать в работе комиссии, а верующие не только выражали недовольство происходившим, но и путем «окарауливания» храмов препятствовали изъятию[31]. А в Минусинске, по свидетельству местных органов власти, «толпа верующих собралась у здания исполкома, требуя прекратить изъятие, но разошлась при первой же угрозе властей»[32]. На самом же деле, только введение в Минусинске 28 апреля 1922 г. военного положения смогло прекратить сопротивление населения проводившейся кампании и пресечь панику местной власти, которая даже намеревалась перевести все советские учреждения в Красноярск[33].
В результате осуществления кампании по изъятию церковных ценностей Русская православная церковь оказалась на грани гибели. Храмы были разграблены, сопротивление верующих и духовенства с помощью военной силы сломлено.
Более того, в ходе соответствующей агитационно-пропагандистской кампании властям удалось спровоцировать клир на незаконные, с точки зрения соблюдения пунктов декрета и инструкции, действия и отвратить часть верующих от церкви. Именно изъятие церковных ценностей стало последней акцией в процессе отделения церкви от государства и школы от церкви. После 1922 г. церковь была лишена экономической и политической силы, сфера же ее культурного влияния резко сузилась.
В результате сложились предпосылки для изменения всей общественно-политической жизни страны и удаления этой конфессии из той политической, культурной и экономической ниши, которую она занимала в дореволюционном обществе.
Особенно недовольны нововведениями в сфере вероисповедания были крестьяне, так как советские преобразования кардинально изменяли их образ жизни. Случалось, прихожане защищали священников при арестах, составляли приговоры сельских обществ, одобряющие деятельность приходского духовенства и замалчивающие агитацию священнослужителей. Были даже случаи активного сопротивления органам власти[8].
Деревенские жители противились изъятию из церквей метрических книг, составлению описей церковного имущества, отказывались отдавать ключи от церковных зданий, не желали признавать законными решения по церковным вопросам, принятые в обход сельского схода. Они возмущались отсутствием в школах икон и занятий, посвященных Закону Божьему, запрещали детям посещать такие школы. Нередки были случаи преподавания в школе «по-старому»[9].
Сельское население открыто возмущалось тем, что нужно ходить в комячейки, взявшие на себя функции местных органов власти, за разрешением привезти в деревню «попа», что коммунисты преследуют религию и не дают молиться, что церкви превращаются в театры, школы и конюшни, что запрещают звонить в колокола. Ими распространялись призывы к возрождению «Святой церкви» и восстановлению преподавания Закона Божьего в школах[10]. Информационные сводки советских и партийных органов губернии констатируют «сильный фанатизм» крестьян по отношению к церкви и их «доверие к духовенству».
В дальнейшем противостояние властных структур и населения губернии по вероисповедным вопросам только усилилось. Были прямые нарушения декрета, когда священникам запрещалось венчать, хоронить и крестить, не признавались церковные браки, заключенные в период правления Колчака. При этом местные органы власти, в первую очередь, партийной, продолжали практиковать аресты и убийства священнослужителей, выселение их из населенных пунктов. Часто эти решения принимались ими самостоятельно без непосредственного обращения за санкциями в вышестоящие инстанции. Правда, иногда представители органов власти пытались заручиться поддержкой населения. Они выносили решение таких вопросов на сельские сходы, что являлось прямым нарушением советского законодательства — вмешательством во внутрицерковные дела.
В свою очередь, население противодействовало исполнению советского декрета. С его стороны были нередки случаи преподавания в школе Закона Божьего. Прихожане защищали храмы, из общественных доходов производили отчисления на содержание духовенства и церквей[11].
Недовольство жителей губернии методами проведения политики вероисповедания советской власти, ее вмешательством во внутрицерковные дела стало еще более ощутимым при проведении кампании по вскрытию святых мощей, которая была предпринята местными органами власти в связи с изданием постановления Совнаркома от 30 июля 1920 г. «О ликвидации мощей во всероссийском масштабе». В результате Енисейским губкомом РКП(б) 21 июля 1921 г. было отменено вскрытие мощей Василия Мангазейского[12].
Провозглашенное Советской властью отделение церкви от государства и школы от церкви, в результате которого собственность религиозных организаций объявлялась «народным достоянием», было продолжено в 1921 — 1922 гг. и закончилось изъятием церковных ценностей не только из закрытых церквей и монастырей, но и из всех действующих православных храмов. Поводом для изъятия ценностей послужил массовый голод, разразившийся в стране в 1921 г.
Первые известия о голоде вызвали значительное общественное движение в помощь пострадавшим. В него включились многие светские и церковные организации в России и за рубежом. Во всех храмах и среди отдельных групп верующих начался сбор денег в помощь голодающим. В этих благотворительных акциях принимали участие и религиозные общины Енисейской губ. В сентябре 1921 г. общие собрания приходских религиозных общин Енисейского уезда, а в октябре 1922 г. Минусинского уезда, приняли постановления об оказании помощи жителям Поволжья через религиозные общины. Епископ Назарий поддержал этот почин, призвав в своем обращении в ноябре 1921 г. паству к сбору пожертвований[13].
Первоначально общесибирские и губернские власти не возражали против подобной инициативы. В августе 1921 г. на заседании Сиббюро ЦК РКП(б) было разрешено организовывать на территории Сибири частные комитеты помощи голодающим[14]. Несколько позже решение было изменено. Все пожертвования, собранные через религиозные общества, должны были поступать на общих основаниях в пункты, указанные волостными комитетами помощи голодающим. Общинам разрешалось только ввести в них по одному представителю[15].
В конце января 1922 г. Сиббюро ЦК РКП(б) вынуждено было поддержать акцию «Неделя помощи голодающим Поволжья», организованную Красным Крестом. В связи с этим в феврале епископ Красноярский и Енисейский Назарий был приглашен в губисполком, где ему было предложено принять участие в ее организации[16]. Население же губернии было призвано «любыми средствами» оказать немедленную помощь пострадавшим от голода. В общесибирских и губернских газетах появились статьи, главным содержанием которых стали призывы церковное золото обменять на хлеб голодным[17].
Со времени принятия постановления ВЦИК от 16 февраля 1922 г., которое декларировало принудительную сдачу «всех драгоценных предметов из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно затронуть интересы самого культа», начался отсчет масштабной общероссийской кампании по изъятию церковных ценностей. Для беспрепятственного проведения кампании заранее была подготовлена соответствующая база. 2 января 1922 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О ликвидации церковного имущества», по которому все церковное имущество подлежало учету и закреплению за различными советскими учреждениями. По официальной версии продажа церковных богатств должна была дать необходимые средства для ликвидации продовольственных затруднений[18].
Как считают Н. Н. Покровский и С. Г. Петров, в первых числах марта перед органами и лицами, занимавшимися повседневным руководством кампанией, встал вопрос о создании в масштабах всей страны особого механизма для изъятия церковных ценностей. 10 марта 1922 г. была создана центральная комиссия «для руководства работой» по «изъятию ценностей из церквей», а 20 марта 1922 г. Политбюро ЦК приняло решение о создании сети комиссий[19].
Необходимо внести небольшое уточнение. На местах первые комиссии по изъятию церковных ценностей были созданы в связи с проведением в жизнь постановления ВЦИК от 16 февраля 1922 г.[20]
12 марта 1922 г. «межведомственная комиссия по изъятию церковных ценностей» в Енисейской губернии приступила к работе. К сожалению, точный состав комиссии установить невозможно за неимением в протоколе ее заседания данных о присутствующих. Это подтверждает ее «секретный» характер. А наличие данного протокола заседания комиссии в делах Енисейского губкома РКП(б) и то, что возглавлял ее член президиума, указывает на решающую роль партии в работе комиссии. Впрочем, роль силовых структур в создании и деятельности этой комиссии выяснить по партийным документам невозможно, хотя и недооценивать ее нельзя.
В основу работы Енисейской губернской комиссии легла директива, данная высшим партийным органом, которая отвергала постепенное и бесконфликтное проведение кампании, требовала быстрого и повсеместного изъятия ценностей, разгрома Церкви[21].
12 марта 1922 г. комиссия утвердила план работы. Она обязала губюст на следующем заседании представить подробные сведения об имуществе конфискованном, а также еще находившемся в ликвидированных храмах, представить подробный список церквей, синагог, костелов и других богослужебных зданий Красноярска для установления очередности изъятия из них ценностей.
Губернская комиссия постановила организовать уездные комиссии в Канске, Минусинске, Красноярске и Туруханске в составе представителей уисполкомов, помголов и уфинотделов, а в Ачинске и Минусинске — дополнительно, в силу ожидавшегося наиболее активного противодействия изъятию церковных ценностей — комиссии под председательством особоуполномоченных губисполкома[22].
До конца марта 1922 г. губернская комиссия вела подготовку и проверку списков предназначенного для изъятия церковного имущества. Начало фактического изъятия было намечено на «послепасхальную» неделю[23].
Информационные сводки ГПУ за март 1922 г. дают достаточно полную картину восприятия населением губернии действий органов Советской власти по подготовке к изъятию церковных ценностей. Они свидетельствуют, что верующие были возбуждены слухами об изъятии церковных ценностей и настроены неприязненно в отношении предстоящей кампании. Отношение духовенства к этому мероприятию также было враждебным. У епископа Красноярского и Енисейского Назария состоялось совещание. Все присутствовавшие резко возражали против происходившего, и только один священнослужитель предложил «не поднимать никакого шума, предоставив… [это] исключительно самим верующим»[24].
Енисейский губернский отдел ГПУ для того, чтобы обезопасить себя в дальнейшем от обвинений в применении насилия к духовенству во время изъятия церковных ценностей, проинформировал власти об «усилении контрреволюционной работы духовенства, принимающей организованные формы». Однако в информационной сводке отдела управления Енгубисполкома за это время, наоборот, отмечалось, что «антисоветской агитации духовенства и его контрреволюционных выступлений (в губернии) не наблюдалось»[25].
В конце марта 1922 г. Енисейская губернская комиссия и губком РКП(б) решили легализовать подготовку к кампании и заручиться поддержкой части населения, для чего в губернии было намечено провести ряд беспартийных конференций. Число проведенных конференций точно установить невозможно. В основном они проводились в городах и поселках с преобладанием рабочих: в Красноярске, Канске, Иланске. О составе присутствовавших можно судить вполне определенно: это были рабочие и красноармейцы, высказавшиеся под влиянием агитационно-пропагандист-ской кампании за немедленное изъятие церковных ценностей. Верующие же, собиравшиеся в церквах, в большинстве случаев выносили иные постановления: «Ценностей не сдавать, заменить их другими вещами и продовольствием»[26].
Весь апрель 1922 г. в губернии шла подготовительная работа к изъятию церковных ценностей. В связи с получением очередного указания Сиббюро ЦК РКП(б) была развернута дополнительная агитационная кампания в воинских частях и профсоюзах. Под руководством агитпропотдела Енисейского губкома РКП(б) был проведен ряд красноармейских митингов, посвященных вопросу изъятия церковных ценностей. По сведениям Енисейского губкома РКП(б), почти все военнослужащие поддержали позицию властей: во всех воинских частях, находившихся в Красноярске, было не более 60-100 человек воздержавшихся.
Кроме того, для «устрашения» населения непосредственно перед самым изъятием ценностей была проведена вооруженная демонстрация воинских частей. Она произвела «очень сильное впечатление» на население Красноярска и несколько приглушила его волнения. Но Енисейский губком РКП(б) все же опасался народных масс, так как даже рабочие, выступавшие за изъятие, не были полностью уверены в том, что церковные ценности будут использованы по назначению[27].
По-иному обстояло дело в других населенных пунктах губернии. В таких городах, как Минусинск и Енисейск, даже коммунисты, не говоря уже об остальных слоях населения, высказались против изъятия. Воинские части, стоявшие в Канске, совсем отказались участвовать в предстоящей кампании.
К концу апреля 1922 г. епископ Красноярский и Енисейский Назарий получил резолюции приходских собраний губернии по этому вопросу. Отовсюду поступили сведения, что население не желает отдавать ценности из церквей и готово противодействовать духовенству в случае, если последнее решит сдать ценности. В своих информационных сводках местные органы ГПУ признавались, что «изъятие, еще не начавшись, во многих волостях губернии уже сорвано». Духовенство же, в том числе сам епископ, понимало, что их прямое противодействие кампании только приведет к кровопролитию, и призывало верующих не оказывать сопротивления органам местной власти[28].
Кампания по изъятию церковных ценностей в губернии началась 28 апреля 1922 г., как и предписывалось директивой Центра, с самого главного и наиболее значимого храма губернии — кафедрального собора Красноярска. 30 апреля изъятие в городе продолжилось и завершилось 8 мая. За это время в кафедральном соборе комиссия побывала четыре раза, в кладбищенской церкви — два, в остальных церквах — по одному разу. Конфисковывалось все, даже предметы, необходимые для богослужения: дарохранительницы, потиры, кувшины, лампады, кадила, наперстные кресты. В Покровской церкви 8 мая комиссия забрала серебряные Царские врата Главного алтаря и облачения с престолов. В уездах изъятие затянулось до середины июня, а в некоторых населенных пунктах до августа. Большая часть собранных на периферии ценностей до конца лета еще не была доставлена в губернский центр[29].
Отчеты, информационные сводки и письма Енисейского губкома РКП(б) и ГПУ не дают полного ответа на вопрос о причинах столь длительного проведения кампании в губернии, которая должна была закончиться еще к концу мая. В апреле 1922 г. губком РКП(б) оптимистично указывал, что серьезного сопротивления в губернии не будет, и изъятие должно пройти сравнительно безболезненно[30]. В более поздних по срокам информационных письмах, например, за июнь 1922 г., он был настроен уже менее оптимистически. Задержку окончания кампании губком объяснял рядом таких объективных причин, как территориальные масштабы губернии и осторожность местных органов власти при проведении изъятия.
В письмах Енисейского губкома отмечалось несколько небольших инцидентов между комиссией и верующими, свидетельствовавших о саботаже и даже о сопротивлении населения изъятию. Так, представители религиозных общин отказывались участвовать в работе комиссии, а верующие не только выражали недовольство происходившим, но и путем «окарауливания» храмов препятствовали изъятию[31]. А в Минусинске, по свидетельству местных органов власти, «толпа верующих собралась у здания исполкома, требуя прекратить изъятие, но разошлась при первой же угрозе властей»[32]. На самом же деле, только введение в Минусинске 28 апреля 1922 г. военного положения смогло прекратить сопротивление населения проводившейся кампании и пресечь панику местной власти, которая даже намеревалась перевести все советские учреждения в Красноярск[33].
В результате осуществления кампании по изъятию церковных ценностей Русская православная церковь оказалась на грани гибели. Храмы были разграблены, сопротивление верующих и духовенства с помощью военной силы сломлено.
Более того, в ходе соответствующей агитационно-пропагандистской кампании властям удалось спровоцировать клир на незаконные, с точки зрения соблюдения пунктов декрета и инструкции, действия и отвратить часть верующих от церкви. Именно изъятие церковных ценностей стало последней акцией в процессе отделения церкви от государства и школы от церкви. После 1922 г. церковь была лишена экономической и политической силы, сфера же ее культурного влияния резко сузилась.
В результате сложились предпосылки для изменения всей общественно-политической жизни страны и удаления этой конфессии из той политической, культурной и экономической ниши, которую она занимала в дореволюционном обществе.
26.02.10 00:07
in Antwort gve 25.02.10 23:05
Ну и где в твоей простыне ответ на мой вопрос, каким образом за веру преследовали крестьян?